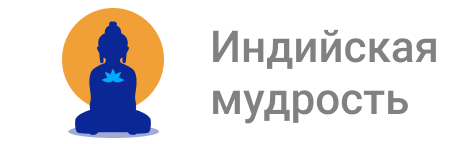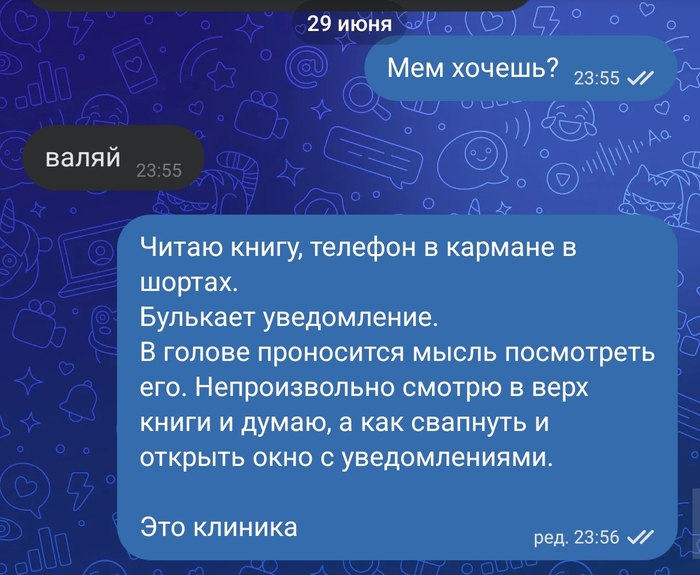Вам сегодня везет? Предлагаем проверить!
Сразитесь в трех играх и зарядитесь удачей на весь день. Бонус победителям: промокод и награда в профиль.
Внезапно…
Ответ на пост «Откровенно о мусульманах»8
Во первых, соблюдать традиции, можно и не привлекая внимания общественности.
Вот это - главное и основное. Всё остальное - вытекающие последствия.
Всегда будет бесить и раздражать то явление, которое орет во все горло о своей уникальности, нарочито пытается выделиться, настойчиво требует к себе повышенного внимания и принятия.
Негры не бесили, пока не стали требовать к себе повышенного внимания. Пидерасты (и иже с ними) не бесили, пока не стали требовать к себе повышенного внимания.
Папа одевал
Больше смешных видео на открытом telegram-канале Конь Валялся
Котёнок Мии познаёт мир
Зоопарк Хигашияма, Япония
Помните своего тамагочи?
Если не помните или у вас его не было, то вы где-то потеряли кусочек сердца… но все можно исправить. С тамагочи можно поиграть прямо сейчас.